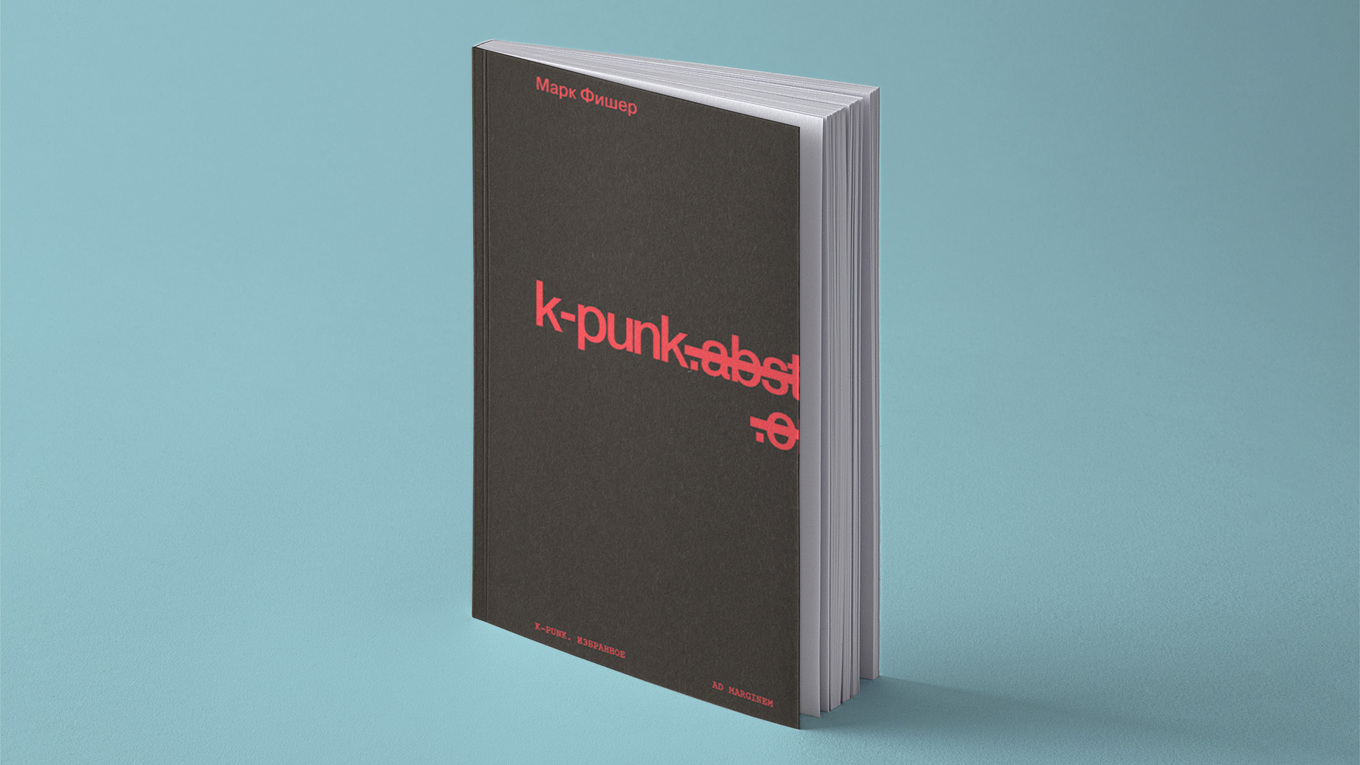Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой

Марк Фишер — британский культуролог, музыкальный критик, исследователь политической теории и создатель блога k-punk, который стал знаковым культурным веб-пространством. Фишер много писал не только о поп-культуре, но и о капитализме и его влиянии на общество. В своих эссе он обращался ко всеобщему ощущению ненужности, депрессии, невозможности и в то же время желанию фундаментальных перемен. Публикуем отрывок из книги «K-punk. Избранное», в котором Фишер размышляет о войне за свободное время и досуг.
Книгу «K-punk. Избранное» выпустило издательство Ad Marginem. Приобрести ее можно по ссылке.
В мире недавно вышедшего научно-фантастического фильма Время валютой являются не деньги, а минуты и часы. По достижении двадцати пяти лет гражданам будущего дается всего год жизни, и чтобы прожить дольше, они должны заработать дополнительное время. У богачей-декадентов в распоряжении столетия, которые они могут проматывать, как пожелают, в то время как бедняки всегда находятся в нескольких днях или часах от смерти. По сути, Время — первый научно-фантастический фильм о прекарности как об экзистенциальном тупике и особом способе организации работы.
На самом простом уровне прекарность — одно из следствий постфордистской реструктуризации труда, начавшейся в конце 1970‑х: отказ от постоянных фиксированных рабочих мест в пользу все более временных форм работы. Даже люди, занимающие относительно стабильные должности, не застрахованы от прекарности. Многие работники теперь вынуждены периодически подтверждать свой статус с помощью систем «непрерывного профессионального развития»; почти вся работа, независимо от того, насколько она рутинна, включает алгоритмы самоконтроля, по которым работник должен оценивать собственную производительность. Оплата труда все больше соотносится с его результатами, хотя их не так уж легко измерить в материальном выражении.
Для большинства работников не существует такого понятия, как долгосрочная перспектива. Как пишет социолог Ричард Сеннет в своей книге Коррозия характера: личность в сети нового капитализма, постфордистский работник «живет в мире, отмеченном <…> краткосрочной гибкостью и текучестью <…>. Корпорации распадаются и сливаются, работы возникают и исчезают, и, таким образом, событиям не хватает связи». На протяжении всей своей истории люди учились примиряться с травматическими потрясениями войн или стихийных бедствий, но Сеннет отмечает, что сегодня «неопределенность существует без наличия какого-либо угрожающего исторического катаклизма, эта неопределенность вплетена в повседневную деятельность энергичного капитализма».
Не только работа стала более нестабильной. Неолиберальные атаки на общественные службы, программы социального обеспечения и профсоюзы означают, что мы живем в мире, где нас все чаще лишают безопасности и солидарности. Следствием нормализации неопределенности является постоянное состояние фоновой паники. Страх, связанный с конкретными вещами, сменяется общей тревогой, постоянной нервозностью, неспособностью успокоиться. Неуверенность в работе усиливается цифровыми коммуникационными технологиями. С появлением электронной почты исчезли границы рабочего времени и рабочего места. Нашу жизнь сегодня можно описать как постоянную тревожную проверку почты в ожидании сообщений, — которые могут принести возможности или требования (часто и то, и другое одновременно) — или, более абстрактно, как проверку своего статуса, который, подобно фондовому рынку, постоянно меняется и никогда не устанавливается окончательно.
Мы очень далеки от «общества досуга», которое уверенно нам предсказывали 1970‑е. Вопреки тем надеждам, технологии не освободили нас от работы. Как пишет Федерико Кампанья в своей статье Радикальный атеизм, опубликованной на сайте Through Europe:
В нынешний век машин <…> у людей наконец-то появилась возможность делегировать большинство производственных процессов технологическому аппарату, сохранив при этом результаты за собой. Другими словами, сегодня в (первом) мире существуют все необходимые предпосылки для воплощения в жизнь старого лозунга операистов «доход при нулевой работе, полная автоматизация производств». Несмотря на это, западные общества XXI века по-прежнему раздирает древняя капиталистическая дихотомия, стравливающая трагически перегруженную работой часть населения со столь же трагически безработной.
Призыв Кампаньи к «радиальному атеизму» основан на признании единственной неизбежной прекарности — шаткости жизни и тела. Если нет загробной жизни, значит, наше время ограничено. Однако, что любопытно, в своем подчинении позднему капитализму мы ведем себя так, будто на работу время тратить можно бесконечно. Работа постоянно стоит у нас над душой, чего раньше не было. Карл Седерстрём и Питер Флеминг в своей книге Мертвец за работой (Dead Man Working) пишут:
В нашем эксцентричном и экстремальном мире работа присутствует повсюду. Наше общество — общество рабочих в худшем смысле этого слова. Даже безработные и дети все больше одержимы работой.
Работа теперь колонизирует выходные, поздние вечера и даже наши сны. Седерстрём и Питер Флеминг подчеркивают:
При фордизме выходные и свободное время оставались относительно нетронутыми, однако сегодня капитал стремится эксплуатировать нашу социальность во всех сферах труда. Когда все мы становимся «человеческим капиталом», мы не просто выполняем работу. Мы и есть работа .
Посему становится очевидным, что большинство политических противостояний в настоящее время сводятся к войне за время. Всеобщий долговой кризис, нависший над всеми сферами капиталистической жизни и культуры, от банков до строительства жилья и финансирования образования, в конечном итоге связан со временем. Стремление избежать предполагаемой катастрофы (конца капитализма) усиливает апокалиптичное ощущение времени повседневной жизни, поскольку ожидание уступает место ощущению, что мы уже живем в катастрофе, и она, как и работа, бесконечна. Рост долгов оправдывает увеличение продолжительности рабочего дня и трудовой жизни, пенсионный возраст отодвигается все дальше. Мы находимся в состоянии изнурительной занятости, от которой, как нам теперь обещают, никогда не избавиться.
Состояние реактивной паники, в котором находится большинство из нас, не является случайным побочным эффектом постфордистской организации труда. Капиталу выгодно, чтобы наше время было не только количественно коротким, но и качественно фрагментированным, отрывочным. Мы вынуждены жить в состоянии, которое Линда Стоун назвала «непрерывным частичным вниманием», когда мы привыкаем распределять свое внимание между несколькими коммуникационными платформами одновременно.
Как утверждал Франко «Бифо» Берарди, сейчас мы живем в напряжении между бесконечностью киберпространства и уязвимой конечностью тела и нервной системы.
В книге Рапсодия прекарности (Precarious Rhapsody) Берарди пишет:
Ускорение обмена информацией произвело и продолжает производить патологический эффект на индивидуальный человеческий разум и еще больше — на коллективный. <…> Отдельные люди не в состоянии переработать огромную и постоянно растущую массу информации, которая поступает в их компьютеры, мобильные телефоны, телевизионные экраны, электронные дневники и в головы. Тем не менее если вы хотите быть эффективным, конкурентоспособным, успешным, то просто обязаны следить, распознавать, оценивать, обрабатывать всю эту информацию. <…> На то, чтобы обратить внимание на все потоки информации, не хватает времени.
Таким образом, мы оказываемся в странном экзистенциальном состоянии, в котором усталость перетекает в бессонную гиперстимуляцию (как бы мы ни устали, найдется время для еще одного клика), а удовольствие соседствует с тревогой (например, проверка электронной почты — одновременно и рабочая обязанность, и либидинальный импульс, психоаналитическое стремление, которое никогда не находит удовлетворения, сколько бы сообщений мы ни получили). Тот факт, что смартфон делает киберпространство доступным практически в любом месте и в любое время, означает, что скука (или, по крайней мере, старая, «фордистская» скука) фактически исключена из социальной жизни. Однако скука, как и смерть, ставит перед нами экзистенциальные вопросы, которые теперь — со всегда доступным киберпространством — гораздо легче отложить. В конечном счете коммуникативный капитализм не столько побеждает скуку, сколько сглаживает ее, вроде бы уничтожая, но сохраняя в новом синтезе. Скука, вперемежку с «залипанием», становится компонентом эмоционального фона полуночного дрейфа по киберпространству, в котором всегда есть место для еще одного клика, еще одной новости. Нам скучно, но мы не можем остановиться, и безграничное рассеивание внимания позволяет нам избежать столкновения со смертью, даже когда она уже на пороге.
Хроническая нехватка времени в какой-то мере объясняет застой и инертность культуры в последние годы. Неолиберализм делал ставку на то, что разрушение системы социального обеспечения расшевелит культуру и экономику, высвободив дух предпринимательства, подавляемый бюрократическими социал-демократическими институтами. Но на самом деле для инноваций необходима определенная стабильность. Распад социал-демократии оказал скорее подавляющее влияние на культуру в таких высоко неолиберальных странах, как Британия. Сбылись пророчества Фредрика Джеймисона о том, что позднекапиталистическая культура погрузится в пучину ретроспекции и компиляции.
Мы настолько привыкли к повторениям и переработке старого, что уже даже не замечаем их. Однако в этом нет ничего удивительного. Новое культурное производство требует использовать время в совершенно чуждом коммуникативному капитализму ключе. Большая часть социальной энергии засасывается в водоворот позднекапиталистического труда и его бесконечной симуляции производительности. Для инноваций необходима поглощенность предметом (а не постоянная отвлеченность), а необходимых ресурсов внимания остается все меньше. Отвлекающие сигналы киберпространства — мигающий красный огонек на смартфоне, тихо кричащее оповещение — работает как ингибитор транса, или как будильник, постоянно прерывающий коллективное мечтание. В таких условиях возможна только краткосрочная интеллектуальная работа. Только заключенные могут позволить себе читать книги: чтобы поучаствовать в двадцатилетнем исследовательском проекте, финансируемом государством, надо кого-нибудь убить.
Чтобы осознать глубину нынешнего кризиса времени, достаточно сравнить сегодняшнюю ситуацию с периодом расцвета панка и постпанка в Британии и Штатах. Расцвет этой культуры неслучайно пришелся на то время, когда в Лондоне и Нью- Йорке существовала невысокая рента и сквоты. Теперь в любом из этих городов нужно посвящать бо́льшую часть времени и сил работе, чтобы просто позволить себе жилье. Безумный рост цен на недвижимость в последние двадцать лет — пожалуй, самая главная причина культурного консерватизма в этих странах. В Британии бо́льшая часть инфраструктуры, косвенно поддерживавшей культурное производство, была постепенно разрушена сменявшими друг друга неолиберальными правительствами. Большинство инноваций в британской популярной музыке с 1960‑х по 1990‑е годы были бы немыслимы без непрямого финансирования: социального жилья, пособий по безработице и студенческих грантов.
Подобные программы давали время, все более недоступное сегодня: время, свободное от необходимости платить за квартиру или ипотеку; время для экспериментов, когда результаты деятельности не могут быть ни предсказаны, ни гарантированы; время, которое может оказаться потраченным впустую, а может породить новые мысли, способы восприятия и существования. Именно такое время порождает инновации, а вовсе не бизнес время «на взводе». Именно в таком времени может пробудиться коллективный разум, может расцвести социальное воображение. Эпоха неолиберализма, когда нам постоянно твердят, что альтернативы нет, характеризуется массовым оскудением социального воображения, неспособностью даже представить себе другие способы работы, производства и потребления. Теперь ясно, что с самого начала (и не без оснований) неолиберализм объявил войну альтернативному режиму времени. Он неустанно поливает грязью тех немногих, кому удалось соскочить с конвейера долгов и всепоглощающей работы, обещая, что скоро и они будут обречены на бесконечную, бессмысленную деятельность, будто выход из застоя возможен только через увеличение количества работы, а не через освобождение от культа труда. Если у нас и есть будущее, оно будет зависеть от того, сможем ли мы отвоевать возможность такого времени, которое неолиберализм всячески блокирует и заставляет нас забыть.