
Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой

Виктория Пээмот — антрополог, исследователь Университета Хельсинки, автор книги «Лошадь в моей крови. Многовидовое родство в горах Алтая и Саяна» («The Horse in my Blood. Multispecies Kinship in the Altai and Saian Mountains»). Для Perito антрополог Дмитрий Опарин расспросил Викторию о кочевом детстве в южной Туве, ее исследовании границы с Монголией, репрессированной лошади своего клана, преодолении колониальности социальных исследований и о том, что значит быть коренным ученым.
Расскажи, пожалуйста, где ты выросла?
Когда мне было меньше года, меня отдали родителям отца, поэтому я выросла с бабушкой и дедушкой. Они вышли на пенсию и занялись своим скотом. Все каникулы и выходные я проводила у них, пропускала занятия в школе, потому что часто была на сезонной кочевой стоянке и не приезжала вовремя в Кызыл [столица Республики Тува. — Прим. ред.], где училась в национальной школе. Монголия была через речку от нашей стоянки. Раньше там никаких пограничных столбов не было, мы просто переходили на монгольскую сторону речки и загорали, потому что там песок был лучше.
Родители матери были известными чабанами-передовиками, а дедушка по материнской линии был активным коммунистом, он представлял Туву в Москве. Его звали Данзурун Иван Симчитович, он был депутатом Верховного Совета СССР с 1966 по 1970 год. Мать у меня из соседнего с отцом суму [суму — наименьшая административно-территориальная единица в Туве. — Прим. авт.]. Мне было интересно видеть разницу в поведении людей, в обычаях в двух маленьких деревнях одного района.
Может показаться странным, что люди на расстоянии 40 километров друг от друга могут чем-то различаться, но расстояние тут не главное — мама и папа происходили из разных родов. До сих пор можно проследить отголоски внутриродовой эндогамии, которая практиковалась родом отца. Предпочтительными считались браки между несколькими группами одного рода соян, которые были связаны принадлежностью к родовой горе Хаан Көгей.
А по материнской линии родовая структура более разнообразная. В ее клан входят такие родовые группы, как чооду, соян, сартыыл, оюн, салчак. Плюс в пятом и восьмом поколениях, если считать от меня, были прадеды из двух разных монгольских групп: дербет Конду и халха Такта.

Ты рано поехала на лошади?
Поздно для тувинского ребенка: в возрасте восьми-девяти лет, наверное. Я сначала ездила на крупе дедушкиной лошади, держась за седло, а потом сама научилась. Я ездила на лошади за водой, отгоняла коров на пастбище, пасла отару. Юрты отвозили на грузовиках, а весь скот мы гнали верхом.
Дедушка дарил мне лошадей на дни рождения. В Туве девочки могут быть хозяйками отдельных лошадей. Но когда говорят о табуне и принадлежности табуна, то всегда называют мужчину. Табун целиком принадлежит мужчине, но лошади в этом табуне принадлежат его жене, дочкам, сыну.
Меня немного удивляет верховая езда в Европе. Я недавно поехала кататься на лошадях недалеко от города Тампере в Финляндии, и мне было непривычно. Во-первых, лошади были исландские — совершенно другая посадка и другие движения. Было сложно физически. И я так в Туве не езжу. Там есть цель, для ребенка это может быть искупаться в озере или реке, но все равно какая-то цель есть. А тут просто по кругу ездишь. Есть монгольский антрополог, который отмечал, что у монгольских детей верховая езда связана только с работой, но ребенку интересно ездить на лошади, и поэтому он начинает делать работу и помогать взрослым, втягивается в хозяйство.
А сколько у твоих бабушки и дедушки было лошадей?
Родители отца, которые в советское время работали в деревне, стали заниматься скотом только с выходом на пенсию. Сначала родственники-чабаны присматривали за их скотом, а потом уже бабушка и дедушка взяли свой скот и начали постепенно наращивать количество. Лошадей у них было мало по сравнению с коровами и овцами. Но у нас обычно так не спрашивают, Дима.
Да?
«Сколько у тебя лошадей?», да. Тувинцы-коневоды, когда им задаешь этот вопрос, предпочитают ответить: «У меня лошади в основном рыжей масти». Это считается неприличным вопросом, нетактичным. И потом нельзя хвастаться числом скота. Но люди обычно знают, у кого сколько лошадей. Табуны действительно по масти легко определять.
Это как спросить: «А сколько у тебя денег сейчас на карте?»
Да.
А ты скажешь: «У меня такой-то банк».
Примерно так. У меня несколько лошадей было, но в один «прекрасный» день в середине 1990-х их угнали через границу с Монголией — тогда было много конокрадства в пограничной зоне с обеих сторон. Я не скажу, кто у кого больше крал, но мои лошади ушли туда.

Чему посвящена твоя диссертация?
Я поступила в аспирантуру в 2015 году в Хельсинки. Мне были интересны отношения людей с лошадьми, как в постсоветское время табунщики очень быстро начали строить свою идентичность через лошадей. В Туве быть хозяином лошади — чемпиона республиканских скачек — это очень круто. Обычно такого человека знают абсолютно все, и кличку лошади тоже знают.
С этим связана и моя семейная история. Во время сталинских репрессий один человек из моего клана был хозяином такой знаменитой лошади. Когда хозяина арестовали, то все имущество, скот и лошадей конфисковали. Самого хозяина расстреляли. А через пару недель убили и лошадь, потому что она была слишком знаменитой и невозможно было ее держать, запускать на скачки.
В постсоветское время мой дядя, журналист и писатель Чооду Кара-Куске, исследовал судьбу этой лошади и написал книгу «Репрессированный конь». Появилось выражение «Не пожалели даже лошадь». Времена были настолько тяжелые, что даже лошадь стала жертвой человеческой жестокости. В 1993 году впервые прошел фестиваль, посвященный этой лошади, у нас на летнем пастбище возле озера Шара-Нуур.
Мне было интересно, как люди ассоциируют себя с лошадью, как они понимают свою историю через лошадь.
Ты проводила поле в своем районе?
Практически у себя. Сразу поехала в свой Тес-Хемский район и работала с родственниками отца: дядями, троюродными братьями, кузенами. А потом для сравнения ездила в другие приграничные районы вдоль монгольской границы. Я предполагаю, исследователей, у которых есть опыт работы вдоль границы на двух сторонах, на монгольской и на тувинской, не так много. Некоторые регионы труднодоступные, а у меня этот опыт есть.
Полевая работа
Полевая работа — это работа исследователей «в поле», сбор первичного материала для изучения. Полевая работа социального антрополога может проходить в разных условиях и сообществах: в городской среде, интернете, маленькой деревне, организации, заповедниках и лабораториях. Полевая работа позволяет исследователям рассмотреть социальные действия и отношения, которые будут проанализированы в дальнейшей работе.
В чем преимущества и недостатки полевой работы со своими родственниками?
Иногда сложно убедить людей, что тебе нужны какие-то сведения. Родственники постоянно говорили: «Ну, Вика, ты же знаешь сама». Но я первые три года полевой работы ездила с американским этномузыковедом Робби Бирсом. И когда я задавала вопрос, люди начинали рассказывать это Робби: «Вика, объясни своему коллеге, что вот так-то».
Ты совсем недавно начала работать среди оленеводов туха в Северной Монголии. Они тоже тувинцы?
В медиаматериалах и антропологической литературе они известны как духа, начинается на звонкий звук [д], или как цаатаны, что в переводе означает «оленевод». Сами себя они называют «туха», с глухим [т].
Например, во время полевой работы в прошлом году я познакомилась с оленеводом туха, которого зовут Өвүй, а монгольское имя Өвөгдорж. Он мне рассказывал, как в детстве и молодости вместе со своим отцом ездил по тайге по обеим сторонам границы. Навещали родственников, лечились на диких горячих источниках. Я спросила у дяди Өвүя, как они себя идентифицируют. И он ответил, что они — туха.
Я считаю, что они тувинцы, потому что у них и язык тувинский, только диалект отличается. И слово «туха» они произносят через глухое т, и этим же словом называют себя, называют меня, и называют Туву Туха.

Можно было спокойно пересекать границу?
Там огромная тайга, Дима, там просто нет никаких пограничных столбов. Но сейчас, говорят, появились дроны и стало сложнее. Мои собеседники-туха рассказывали, где какая гора, где минеральные источники на тувинской стороне. Конечно, они не переходили границу через официальные пункты.
Сколько примерно тувинцев, или туха, в Монголии?
Оленеводов туха, по официальным подсчетам, около 500 человек, но люди говорят, что их не больше 400. А на западе Монголии живет другая группа тувинцев, их несколько тысяч в аймаках Баян-Ульгий и Ховд. Я с ними тоже работаю.
То, что ты стала заниматься монгольскими тувинцами, связано с началом войны?
Первая полевая работа в Монголии у меня прошла в 2016 году. Мне надо было увидеть, где мой клан жил раньше, где у нас родовая гора Хаан Көгей. Сейчас Тува закрыта для нас, и поэтому я сконцентрировалась на Монголии.
Есть еще одна причина. Я работаю с финскими архивами. В начале XX века финны активно ездили в Туву, но тогда Тува еще была частью Цинского Китая, и границы между Тувой и Монголией не было. И мне интересно побывать в местах, где работали исследователи, работы которых я читаю.
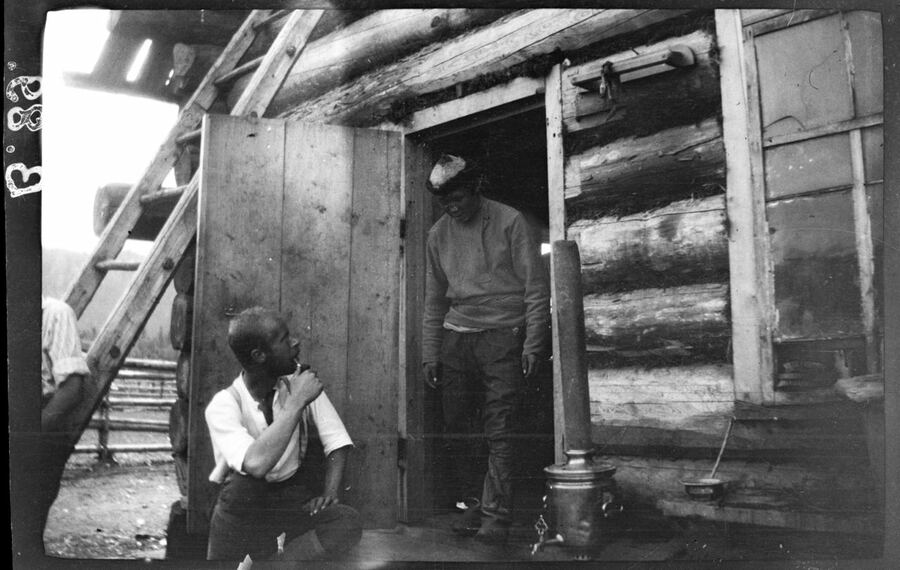
Нет ли ощущения, что Монголия чужая тебе?
Нет, совершенно нет. Земли моего рода Соян — на монгольской территории, гора Хаан Көгей, которую я видела каждый день на наших сезонных стоянках с весны по осень, — на горизонте.
В Монголии я работаю не только с тувинцами, но и с теми монголами и монголоязычными группами, которые живут непосредственно на границе, у которых история соседства или взаимодействия с тувинцами именно из моего рода. Это баяты и дербеты.
Часть баятов говорит по-тувински. Например, в прошлом году я зашла в управление Убсунурского заповедника в городе, переживаю, что у меня с монгольским никак. И первый попавшийся человек, биолог, говорит по-тувински очень хорошо и знает моих родственников с тувинской стороны.
В Туве на границе люди иногда говорят по-монгольски, у меня часть табунщиков говорит по-монгольски. Сейчас люди начали интенсивно ездить в Монголию, более активно налаживать контакты там, активизировать старые связи.

Тувинцы эмигрируют в Монголию?
Масштабной эмиграции, кажется, нет. Там есть студенты, многие покупают машины в Монголии, регистрируют там, чтобы российскую пошлину на растаможку не платить. И ездят с монгольскими номерами по Туве. Или ездят в частные клиники в Монголию.
Там медицина лучше?
Там медицина лучше. Если люди до войны ездили в Красноярск, Новосибирск, то часть этих людей теперь начала ездить в Монголию, потому что там хорошая частная медицина. У многих есть квартиры в Улан-Баторе, детей отправляют в школы в Монголии. А те, у кого есть деньги, последние два года отправляют детей в школы-пансионаты в Южную Корею.
В советское время тувинская идентичность была выстроена так, чтобы дистанцироваться от Монголии. Но это было целенаправленным конструированием со стороны государства. Вся история тувинцев на протяжении столетий была совместной с западными монголами. А потом вдруг появляется государственная граница и они оказываются гражданами разных стран. Была проведена идеологическая работа, чтобы люди начали смотреть на Монголию как на чужую страну и на монголов — как на чужих людей.
В чем заключалось твое исследование приграничных земель?
Меня интересовало, как люди восстанавливают трансграничные контакты. Нелегальные контакты происходили даже в советское время, потом они активизировались. В 1990-х с обеих сторон было повальное скотокрадство. Мне, как тувинке, было некомфортно разговаривать на эту тему в приграничных районах Монголии. В 2016 году, например, я общалась с монгольскими коневодами, скотоводами, и приходилось напрямую спрашивать людей: «У вас уводили лошадей через границу?» Мне говорили, что да.
Мне бы хотелось, чтобы мы пережили эти тяжелые моменты и снова начали дружить.
С другой стороны, к скотокрадству можно подойти как к определенной форме взаимодействия, в которой есть своя этика.
Это как у антрополога Майкла Херцфельда. Он работал с пастухами на Крите, и там украсть барана было признаком настоящего мужчины, этот поступок не оценивали негативно. Но в Туве до середины 1990-х годов действовали негласные законы в отношении скотокрадства, а после эти законы исчезли, их перестали соблюдать.
Еще в начале 1990-х у нас угнали ночью стадо коров. Утром все дойные коровы вернулись. Бабушка объяснила, что даже скотокрады не берут таких коров, потому что у них остаются телята, они будут мучиться. Нельзя было увести весь скот и не оставить хозяину хотя бы одну корову.
Когда я встречаюсь с антропологами, которые работают в соседних с Тувой регионах, они спрашивают именно о скотокрадстве. Допустим, человек работал на Алтае и сразу же говорит: «А вот алтайцы очень боятся тувинских скотокрадов». Говорят, что они ночью приезжают голые, на лошади, чтоб ничего не звенело, не гремело, обмажутся какими-нибудь травами, чтобы собаки не учуяли.

Когда я была в Туве в 2018–2019 годах, то заметила, что у населения появляется выраженная критичность по отношению к власти. А власть у нас тогда состояла из ставленников Шойгу. Я подумала: ну, хорошо, начали наконец-то критически относиться к своим чиновникам.
Я с юга Тувы, а юг Тувы в советское время считался недостаточно лояльным власти. Почему южане были менее лояльны? Во-первых, из-за пограничного вопроса: границы разделили часть кочевий, люди постоянно пересекали границу, из-за этого мы попадали под репрессии. Многие мужчины из родов, которые жили вдоль новой границы, были репрессированы, отправлены в тюрьму или расстреляны. Поколение репрессированных — это родители моих дедушек и бабушек. О репрессиях сохраняется живая память.
Когда я начала делать исследования, мы спрашивали скотоводов: «Вы скучаете по советскому времени? Может быть, в советское время ваше положение было лучше?» Ответы меня удивили: все сказали, что по советскому времени не скучают. Многие скотоводы, с которыми я работаю, — это дети и внуки репрессированных.
Люди помнят потерянные родовые территории. Коллективизация проходила очень жестко. И скотоводы говорили, что в постсоветское время, наоборот, стало лучше, потому что все теперь зависит от того, насколько трудолюбив сам человек. Трудолюбивый — значит, у тебя много скота и живешь обеспеченно, детей можешь отправить учиться, купить квартиру. На вопрос о помощи от правительства отвечали, что никакой помощи им не нужно, лишь бы не мешали. Но в последние годы появились и программы поддержки молодых скотоводов, начали выделять гранты.
Почему жители Тувы идут на фронт, как ты думаешь?
В медиа обычно говорят, что там экономическая ситуация плохая и люди идут за заработком. Но в Туве дело было просто в одном человеке, наполовину тувинце, который был министром обороны России.
Культ которого есть в Туве?
Культ которого есть в Туве. Сергей Шойгу в 1999 году стал одним из трех лидеров «Единства» — партии, которая возникла перед «Единой Россией». И тогда вся республика, 98 %, голосовали за предложения «Единства», и всегда кандидаты от «Единства» проходили в Туве с высокой поддержкой. На тот момент Шойгу был главой Министерства чрезвычайных ситуаций, которое создал с нуля. Люди его уважали, и он, конечно, тогда был спасателем.
А потом он возглавил Министерство обороны. И многие начали отправлять детей в военные училища. Новорожденных мальчиков называли Шойгу в его честь, или Шойгу Маадыр — Герой-Шойгу или Богатырь-Шойгу. Незадолго до начала войны вышел клип на песню на тувинском языке. В нем люди в одежде, напоминающей одежду военных чингисхановской армии Монгольской империи, скачут на лошадях. А в конце там было предложение, что мы верим, что Шойгу — это перерождение генерала монгольской армии Субэдэя.
Пограничье создает трудности в полевой работе? У меня, например, на Чукотке особенных проблем не было, но общаться с пограничниками, докладывать, где я, приходилось постоянно. Иногда они докладывали мне сами, где я, в какое село приехал.
Половина Тувы — пограничная зона, и в эти районы нельзя ездить. Даже когда я езжу по семейным обстоятельствам с маленькими детьми, я оформляю специальный пропуск для проезда в пограничный район на себя и на детей. Тува маленькая, там все друг друга знают, видят.
Представь, голая степь, машина просматривается очень хорошо, далеко-далеко. Пограничники отличают местные машины. Если машина не местная, то приходят и спрашивают: кто был, с какой целью, есть ли пропуск. Дядя говорил: «Мы даже гостей не можем к себе пригласить без оглядки на Кремль».
В западной академической среде есть такое понятие, как indigenous scholar — коренной исследователь. Я иногда начинаю рефлексировать и думаю, что не имею права заниматься индигенными культурами. Я русский, тем более из Москвы, приезжаю на Чукотку, и эта ситуация априори колониальная. Чем больше было бы indigenous scholars, тем лучше, потому что именно indigenous scholar может понять то, что не может понять аутсайдер, и именно у такого исследователя есть великий социальный капитал, которого никогда не будет у аутсайдера, знание языка (чаще всего). Потом мне приходила мысль, что неправильно делить исследователей на коренных и некоренных. Я постоянно находился в мучительном внутреннем диалоге с самим собой по этому поводу. Ты какого мнения придерживаешься по этому вопросу?
Сейчас многие размышляют о работе с людьми не своей группы, этнической или любой другой. В Хельсинки я работаю в департаменте Indigenous studies [коренных исследований. — Прим. ред.], и я очень рада, что могу делать упор на индигенную методологию исследований.
Но все не так просто. Наверное, для всех нетувинцев я просто тувинка, но, когда я оказываюсь в Туве, то понимаю, идентичностей настолько много, что непросто почувствовать принадлежность к конкретной группе. На западе Тувы я всегда южная тувинка, на юге Тувы я всегда тувинка из конкретного маленького места со своей родовой историей.
И даже в моей семье, с теми же табунщиками, у меня постоянно меняются позиции инсайдер-аутсайдер, не только с мужчинами, а даже с женщинами, потому что у нас разный опыт. Днем я общаюсь на лошадиную тему с мужчинами (и среди них я чужая), а по ночам беседую с женщинами — семейные дела, про детей, быт, и с ними я тоже не совсем своя.

Бывает так, что ты чувствуешь особенное внимание к себе в академической среде как к коренному исследователю, что тебя могут пригласить на конференцию или в сборник исключительно как коренного исследователя?
Я получала приглашение принять участие в мероприятиях, где заявленная тема связана с коренными народами. Кроме меня, там не было коренных среди авторов или докладчиков. И тогда я начала переживать: а почему меня позвали? Но я бы не сказала, что это сложный опыт. В 2017 году я познакомилась на конференции сo Свеном Хаакансоном. Он алутиик [представитель коренного народа Аляски. — Прим. ред.], антрополог из Вашингтонского университета. И вот мы с ним обсуждали, как делать исследования вместе со своим народом и на пользу своему народу. Жители Тувы помогают мне в работе, и у них мотив тот же: помочь своему народу, сохранить знания или поделиться ими.
А тебе не кажется, что это слишком прекраснодушная риторика? Что антропология никоим образом никому не помогает, и ученые, которые говорят, что от их исследований есть польза для людей, лицемерят? Никакой пользы для людей от их исследований нет, публикуются они на английском языке, никто из их собеседников эти тексты не прочитает.
Только сегодня я думала о Наташе Файн, она антрополог, работает в Монголии, сама из Австралии. И она рассказывала об очередной полевой школе в Монголии для студентов из австралийского университета. Я подумала, что это прекрасно. Наташа сделала диссертацию по Монголии, работала со скотоводами, теперь она руководитель центра монголоведения в своем университете в Австралии и активно участвует в культурном и научном сотрудничестве двух стран.
Это очень позитивный опыт. И надо, чтобы таких людей, как Наташа, было больше. Она говорит по-монгольски, издала книгу в Монголии — уже не научную, а популярную детскую книгу.
Но таких примеров немного. Ты прав, какая польза людям от того, что кто-то приехал, собрал у них сведения, уехал, опубликовал это на других языках, а к людям ни разу не вернулся? Надеюсь, такая нехорошая практика устаревает. И тут как раз помогают департаменты по indigenous studies, потому что они пытаются внедрить протоколы исследований с коренными народами.
Новозеландская индигенная исследовательница Линда Тухивай Смит говорит, что любое исследование колониально априори, что вот ты тут приезжаешь из другого места с иным уровнем возможностей — медийных, информационных, финансовых. Ты задаешь вопрос, задавать вопрос — это всегда требование. Даже если ты задаешь самый вежливый вопрос, это все равно требование ответа, ты ждешь. Я ломаюсь внутренне иногда, потому что осознаю, что любая партиципаторная, этически выверенная антропология колониальна, тут никуда не деться.
Надо сказать, что я приезжаю в Туву на деньги финского фонда, представляю финский университет. И да, тут сразу выстраивается неравенство, конечно. И я тоже внутренне ломаюсь, а потом пытаюсь выстроить себя заново.
А что делать тогда? Исследованиями не заниматься? Но я думаю, что исследованиями надо заниматься. Надо сделать так, чтобы был интерес у людей и чтобы не только мы имели возможность получить грант, поступить в докторантуру или оказаться на какой-нибудь хорошей позиции в западном университете, получать неплохую зарплату, допустим, ездить по миру. А надо, чтобы были какие-то равноправные условия.
У меня тоже есть внутренний дискомфорт. Поэтому не случайно в первый год своего поля я поехала именно по родным местам, потому что мне там было комфортнее обращаться к людям за помощью. Потому что это были мои родственники, близкие, дальние, там абсолютно весь район из родственников в той или иной степени состоит. И так как мои родители были первыми из нашей деревни, кто переехал в город, у кого там появилось свое жилье, то из отцовской и материнской деревни много родственников жили у нас, останавливались, дети родственников учились в Кызыле и жили у нас.
То есть в первый раз, когда я поехала, мне было комфортно, я продолжила эти взаимоотношения, выстроенные моими родителями. А во второй раз я уже начала задумываться: а сколько раз я так могу приезжать к людям, просить о помощи, да еще и привозить с собой коллег-иностранцев? Чтобы приняли не только меня, но и его, чтобы помогли не только мне, но и ему.

О чем ты сейчас пишешь?
Я приехала в Японию по гранту японского фонда. У нас совместный проект с профессором Такакурой Хироки, директором Центра исследований северо-восточной Азии Университета Тохоку. Я пишу книгу, основанную на работе с финскими архивами по Туве и западной Монголии.
Мне интересно, как, используя эти финские архивы, я могу узнать больше о местности, о конкретном ландшафте. Например, я приезжаю в Тере-Холь: на фотографии здесь была гора, а рядом с горой был большой монастырский комплекс. Где он сейчас? Монастырь сожгли еще до 1932 года, и люди даже не смогли вспомнить, где он стоял. Историк Иванна Отрощенко пишет о репрессиях в отношении духовенства и уничтожении буддистских хүрээ: «С 1929 года количество тувинских монастырей и проживавших в них лам стало катастрофически сокращаться в связи с политической линией власти, инспирированной советской стороной и Коминтерном».
Для меня это было очень страшно, потому что тувинцы просто помешаны на родстве через землю, на выстраивании своей принадлежности к земле. И вдруг люди не знают, где на территории их района, недалеко от кочевий, был большой монастырский комплекс. Мы поездили и нашли это место — от построек и заборов все еще остались следы.
Так можно из архива восстановить историю, которая утеряна из-за событий 1930-х годов, репрессий, когда люди боялись говорить.
