
Подчинение территории: как Советский Союз и его наследница Россия обращаются с ресурсами, людьми и природой


Борис Никитин родился в Швейцарии в семье эмигрантов с украинскими, словацкими, французскими и еврейскими корнями. Он больше десяти лет исследует способы представления и конструирования идентичности и реальности. Его пьесы балансируют между театром иллюзий и перформансом, между документальностью и фейками. В моноспектакле «Магда Тоффлер, или Эссе о молчании» Никитин изучает историю семьи, собственную идентичность и природу документального искусства, оттолкнувшись от речи Генриха Гиммлера 1943 года перед верхушкой СС об «окончательном решении еврейского вопроса». Публикуем перевод пьесы, подготовленный художником и куратором, автором телеграм-канала «пиши перформенс» Ваней Демидкиным.
Perito запустило авторскую рассылку для читателей — в каждом выпуске редакторки выбирают одну из публикаций и предлагают углублённый контекст и размышления по теме. Мы также открываем книжный клуб, где будем читать современную незападную литературу, обсуждать вопросы истории, идентичности и постколониального опыта.
Октябрь 1943-го. Германия воюет уже четыре года. Правовая система полностью разрушена. Ситуация для немцев складывается не лучшим образом, расстановка сил меняется. Обещание «тысячелетнего рейха» все больше и больше выглядит иллюзией. Партийные кадры открыто поддерживают фюрера, но некоторые начинают сомневаться, на правильную ли лошадь они поставили. Непогрешимость фюрера ставится под сомнение. Но наказание за непослушание делает невозможной любую открытую критику диктатуры. Это значило бы неминуемую смерть. Страх, что оппортунизм зашел слишком далеко, закрадывается в тела людей. Если мнениями вообще делятся, то делятся тайно.
Именно в такой обстановке рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер созывает в ратуше польского города Познань в обстановке строжайшей секретности всех 43 гауляйтеров рейха, чтобы ознакомить их с директивами, которые были приняты несколькими месяцами ранее в Берлине. Это ранний вечер, около шести часов. На следующий день Гиммлер будет праздновать свой 43-й день рождения. Гиммлер выступает перед собравшимися в зале функционерами и объявляет решение руководства о полном уничтожении еврейского населения Европы.
Его довольно длинная речь не оставляет места двусмысленности. Но прежде чем Гиммлер произнес ее, произошло нечто странное. Он выставил перед всеми два фонографа Эдисона, чтобы записать свою речь на две восковые пластинки. Так, пока все слушают речь Гиммлера, они одновременно видят, как на этих пластинках слово за словом, оборот за оборотом вырезаются предложения.
Зачем это СС? Зачем нужны эти устройства, если встреча проходит в обстановке строжайшей секретности? Можно подумать, что Гиммлер просто хочет записать речь для себя. Рейхсфюрер известен своим тщеславием, поэтому неудивительно, что он хочет сохранить этот момент как историческое событие для будущих поколений.
Но дело не в этом. Гиммлер и СС хотят чего-то еще. Чего-то, что должно быть увековечено и что будет необходимо для легитимизации их преступлений. Записан должен быть не только голос Гиммлера. И речь идет не только о словах, произнесенных в этой комнате. Речь идет о зазорах между словами. О тишине в комнате.
Летом 2009 года, когда я репетирую в Берлине спектакль «Имитация жизни», в котором обращаюсь к своему стойкому недоверию ко всему документальному и к идее «реальных людей на сцене», моя мама звонит мне, чтобы сообщить о смерти бабушки Магды.
Новость не была неожиданной. Магда уже несколько дней находилась при смерти в доме престарелых в Братиславе. Она провела там последние три года. Всего два месяца назад я навещал ее и провел с ней почти целую неделю. Это не настоящий дом престарелых, а клиника для реабилитации, где она была с тех пор, как упала и сломала бедро, пытаясь достать банку с консервами с верхней полки кухонного шкафа. После операции ее тело немного восстановилось, но врачи сказали, что из-за общего состояния она не может вернуться домой. Они посоветовали моей маме и ее сестре оставить Магду в клинике. Магда, всегда ценившая свою самостоятельность — она была профессором химии, — не соглашалась с этим предложением, но в этом случае, вопреки ее привычке, решение большинства перевесило.
Несмотря на обстоятельства, я нахожу ее в полном порядке, когда навещаю. Ей 86, ее ментальные способности, которыми она всегда гордилась (помимо прекрасной внешности), снизились, и она не перестает жаловаться на плохое обслуживание и необразованных соседей, но, в отличие от прошлых лет, она больше не страдает от депрессии. Это сразу бросается мне в глаза. У меня самого уже несколько лет случаются приступы депрессии. Они наступают довольно регулярно и иногда длятся по несколько месяцев. Так что мне хорошо знакомы тревога и внутренний паралич, которые могут закрасться в тело и голову.
Последние пару лет у Магды были похожие симптомы, но сейчас, когда я прихожу к ней в клинику, у меня возникает чувство, будто кто-то внезапно откинул тяжелое, невидимое одеяло. Она, как всегда, ворчлива и цинична, но грусть с нее спала. Вокруг нее целый день находятся люди, и это злит ее, но в то же время, кажется, заряжает энергией. Кажется, ей стало легче. Возможно, она избавилась от того самого фатализма, который овладевает людьми, когда они начинают отпускать свою жизнь после стольких лет труда, забот и самоконтроля. Я помню, как однажды она сказала, что, будучи фармацевтом, могла бы легко покончить с собой, но, к сожалению, это не по-христиански.
На второй день моего визита мы вместе сидим в саду. Лето, на улице тепло. Другие пациенты сидят в своих инвалидных колясках, некоторые в кепках и солнцезащитных очках дремлют в тени деревьев. Все вокруг очень медленное, очень тихое и ранимое. Мне нравится эта атмосфера, и я счастлив быть с бабушкой. Я регулярно навещаю ее с тех пор, как мне исполнилось 15. После смерти дедушки мне захотелось узнать ее с другой стороны. В то же время поездки на поезде в Братиславу давали мне возможность почувствовать себя независимым. Они придавали мне уверенности, так я становился взрослее. Тогда у нас с Магдой завязалась дружба, которой я горжусь. Мы обмениваемся мнениями обо всем, рассказываем друг другу истории. Она одна из первых, кому я рассказал о своем парне. Мы много спорили. У бабушки сложный характер, с которым обе ее дочери боролись долгие годы. И сейчас, когда мы сидим возле клиники, я рад, что построил с ней свои собственные, ничем не отягощенные отношения. И разделил с ней последний этап ее жизни.
Мы вместе пьем растворимый кофе, разговариваем. Она расспрашивает меня о брате и сестре, интересуется, как продвигается моя работа, как дела у моего парня, чем занимается отец и по-прежнему ли он так сильно увлечен спортом. Пока мы разговариваем, я вдруг замечаю, что она делает небольшие паузы между словами. Поначалу это не кажется необычным для человека ее возраста. К тому же это нечто новое в ней, что пробуждает мой интерес. Внезапно эта умная женщина, которая всегда была такой остроумной, начинает тихо бормотать про себя. Я сижу рядом и вижу, как она окидывает своими тусклыми глазами что-то выше меня в саду и уходит в себя. И я думаю, что ее тело вот-вот вступит в свою последнюю главу, и она вдруг перестанет быть просто моей бабушкой, а станет пожилым человеком.
Некоторое время мы сидим в тишине. Издалека до меня доносится шум городского транспорта, а где-то поблизости собака лает с равными интервалами, словно в панике, как будто кто-то настойчиво бьет в барабан, настроенный слишком высоко. «Это сторожевой лагерный пес», — резко говорит Магда. Я смеюсь, так как думаю, что это еще одна ее язвительная ремарка. Но когда медсестра выходит и забирает пустые чашки, Магда вдруг заговорщически наклоняет ко мне голову и шепчет, что мы должны быть осторожны с охранниками лагеря, они ни в коем случае не должны слышать, о чем мы говорим.
Теперь я немного растерян и думаю, нет ли у нее деменции. Она путает этот сад, персонал и всю клинику вокруг нас с совершенно другой реальностью. «Ты не должна бояться медсестер», — говорю я, рефлекторно находя и начиная поглаживать ее руку. Когда я чувствую тонкую нагретую солнцем кожу, я вздрагиваю. На ощупь она похожа на теплое тесто, и я понимаю, что впервые делаю что-то подобное.
Говорят, для образования нового синапса человеческому мозгу требуется 600 повторений. В науке это называют пластичностью. Магда — красноречивый человек. Она говорит на шести языках. Любит общаться — как о других, так и (чаще) о себе. Есть только одна вещь, о которой она не говорит: война и время сразу после нее. Никогда. Говорит, что не может.
Ее отец Пауль Тоффлер, фармацевт-католик из Тренчина, который держал две аптеки в этом маленьком городке западной Словакии, был пойман эсэсовцами в 1944 году, когда тайно снабжал партизан медикаментами. Он был арестован, отправлен в Бухенвальд и умер во время марша смерти незадолго до окончания войны. «Его посадили в концлагерь, потому что он давал лекарства партизанам», — это единственная фраза, которую я когда-либо слышал от Магды о том времени. Она не хочет говорить о нем. Оно ее угнетает.
Это были последние годы, когда страна называлась Чехословакией. Мы приезжаем к бабушке и дедушке два раза в год, один раз летом, другой — зимой, чтобы отпраздновать Рождество. Таможенный контроль на границе всегда занимает несколько часов. Машина должна быть полностью разгружена. Пограничники обыскивают чемоданы, багажник и весь двигатель под капотом, прежде чем, наконец, разрешат пересечь границу. Бабушка и дедушка живут в старой квартире в спальном районе недалеко от железнодорожного вокзала.
Квартира немного обветшала. Кухня, ванная и туалет намного старше, чем в Швейцарии. В комнатах всегда стоит специфический запах, который я знаю только по этой квартире и который настолько прочно запечатлелся в моей памяти, что даже сегодня я могу вспомнить его в любой момент. Как-то кто-то объяснит мне, что это запах камфары. Я так и не узнал, что это такое и как оно выглядит.
Снаружи, в правой части квартала, находится лестница, которая ведет на вершину холма и к большому, просторному парку. Это советское военное кладбище, которое мы регулярно посещаем. С высоты открывается замечательный вид на город. Но больше всего меня завораживают монументальные статуи с огромными лицами, торжественно и в то же время растерянно смотрящими в будущее.
Мы с братьями и сестрами проводим большую часть времени с дедушкой Эмилем. Он второй муж Магды и отец нашей матери. Раньше он был адвокатом. В начале послевоенного периода, как нам рассказывали, он присоединился к сопротивлению против нового режима. За это его посадили на два года в тюрьму. Он никогда не обсуждал это. Позже Магда говорила, что раком он заболел именно в тюрьме.
Летом мы всегда ходили с Эмилем купаться на озеро и ловить рыбу. Он очень любящий и нежный дедушка, почти как из детской книжки. Мы едим мороженое и собираем травы, которые кладем в книгу между листами и оставляем сушиться на несколько недель.
Время от времени мы навещаем Магду на ее рабочем месте. Это фармацевтическая лаборатория. Люди, которые там работают, одеты в белые халаты, держат в руках ампулы и ведут записи. Здесь царит атмосфера сосредоточенности и занятости. Магда руководит лабораторией, все называют ее профессором.
По вечерам мы сидим в гостиной и смотрим Zeit im Bild, новостную программу австрийского общественного телевидения. Магда объясняет, что человек, которого в последнее время так часто показывают по телевизору, — новый генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. С ним все наладится, говорит она. Вскоре я, она, Эмиль и еще 10 тысяч человек будем стоять на обочине дороги и махать маленькими флажками этому человеку, когда он, улыбаясь, промчится мимо нас на черном лимузине.
По телевизору в гостиной мы несколько вечеров слышим слово «Плитвиц», его слоги врезались в мою память, как удары ножом. Это название парка, где раздавались выстрелы. Магда и Эмиль сидят рядом со мной. У них такой же обеспокоенный взгляд, как у диктора. Это начало югославской войны, но в то время об этом еще никто не знал.
А вот и фотография отца Магды, Пауля Тоффлера. Она всегда стоит на столе напротив телевизора. На ней изображен человек с высоким лбом и усами. Эта фотография привлекает меня каждый раз, когда я бываю у дедушки с бабушкой. Однажды я спрашиваю Магду, не кажется ли ей, что он немного похож на Уолта Диснея. Она отворачивается и выходит из комнаты, так ничего и не ответив. Изображение молчаливого человека с усами смотрит на меня ничего не подозревающим взглядом, как икона.
«Его отправили в концлагерь, потому что он давал лекарства партизанам». «Его отправили в концлагерь, потому что он давал лекарства партизанам». Эту фразу я слышу снова и снова на протяжении всего детства. Она принадлежит миру бабушки и дедушки, как покрытые копотью дома с изрешеченными пулями фасадами, нескончаемая химиотерапия Эмиля или хроническая усталость Магды. Или грубые, изможденные лица людей в трамваях. Все вместе это образует ту особую реальность, которую мы встречаем с родителями и позже, после их развода, с мамой. Реальность, частью которой мы являемся, но и не являемся в полном смысле, пока мы с братьями и сестрами остаемся детьми. И вот 20 лет спустя меня не удивляет, что война и воспоминания об исчезновении отца возвращаются к Магде и начинают смешиваться с ее собственной реальностью, пока я сижу с ней в саду клиники и глажу ее кожу своей рукой.
В общей сложности я провел в Братиславе неделю. Когда я не в клинике с Магдой, я обедаю с тетей и двумя кузинами. Я посещаю замок, гуляю вдоль Дуная, фотографирую и записываю мысли в блокнот. За последние пару лет город сильно изменился. Фасады зданий отреставрировали, а центр украсили ресторанами и кафе для туристов и нового поколения. И я понимаю: это прощание.
Через пару недель после похорон Магды мы с командой заканчиваем репетиции «Имитации жизни» в культурном центре Kaserne Basel. Это спектакль о двух артистах, которые рассказывают зрителям истории своих жизней. По ходу вечера становится все более непонятно, правдивы ли эти истории и являются ли исполнители на самом деле теми, за кого себя выдают.
Мы репетируем сцену, в которой исполнительница рассказывает, как правдоподобно она изображает горе на сцене, как вдруг звонит телефон. Это мама. «Пришло письмо из Израиля, — говорит она, — от Магды Корах. Это кузина Мамины, она живет недалеко от Тель-Авива. Ты должен прийти и прочитать письмо. Оно тебя заинтересует». Я удивлен, потому что никогда не слышал о кузине бабушки из Тель-Авива. Но звучит интересно, и вот несколько часов спустя я иду к маме домой.
Я расслаблен, репетиции идут хорошо. Конец лета, люди сидят на берегу Рейна, болтают и наслаждаются обществом друг друга, празднуя окончание рабочего дня. Когда я захожу в квартиру, мама сидит за обеденным столом и смотрит в окно. Письмо разложено перед ней, как ноты. «Так кто же эта Магда Корах?» — спрашиваю я ее. «Пару лет назад мы обменивались письмами. Я хотела узнать больше о происхождении Мамины. Ты знаешь, она никогда не говорила об этом. Вот, посмотри сам». Она протягивает мне тонкий лист бумаги с текстом на одной стороне. Почерк трудно расшифровать, он шаткий и, похоже, исходит от очень пожилого человека, который потратил много сил на эти строки. Удивительно фактичные, учитывая обстоятельства.
«В связи со смертью вашей матери хочу выразить свои соболезнования. Мне жаль, что мы не связывались с тех пор, как обменялись письмами четыре года назад. Тогда вы хотели узнать больше о своей семье. Я сказала, что оба ваших дедушки и бабушки были иудеями из еврейских семей, а затем стали христианами. Печально, что Магда подавляет свои корни. У меня нет другого объяснения тому, что она отказалась от контактов со своей семьей. Может, ей было стыдно? Вы знаете, согласно еврейской традиции, этническая принадлежность передается по материнской линии. Поэтому я могу ответить на ваш вопрос, заданный еще тогда. Ваша бабушка была еврейкой, мать — еврейкой, поэтому вы и ваши дети тоже евреи. Сначала я не хотела писать вам, но важно, чтобы вы не забывали об этом».
Я смотрю на маму недоумевая. «Как давно ты об этом знаешь?» — спрашиваю я ее. «Недолго, я общалась с ней некоторое время. Может, тебе стоит съездить к ней». «У них одинаковые имена», — бормочу я про себя, глядя на письмо. Когда я поднимаю глаза, то по выражению лица мамы понимаю, что она меня не услышала, и повторяю чуть громче: «Магдалена Тоффлер. У них одна и та же девичья фамилия».
8 августа 2010
Дорогой Борис. Я порвала две связки на правом плече, поэтому у меня такой ужасный почерк. Я очень рада твоему письму. Оно сняло серьезную тяжесть с души. Когда я отправляла свое письмо, я задумалась. Боже, как я могу выразить свои страдания, свое несчастье, свою боль и свое отчаяние незнакомому человеку? Ведь он не поймет! Что я должна сказать? Лишь часть правды или все как есть? Ведь я не рассказывала ни твоей бабушке, ни матери о самом сложном и тяжелом. Но твое письмо было трогательным. Я чувствую, что в твоих генах есть что-то от нашей семьи. Конечно, ты услышишь и много прекрасного. Например, о том времени, когда все еще было нормально. Но чем старше я становлюсь, тем лучше могу оценить и жестокие события.
Борис. Перед моим домом есть небольшой сад без газона и цветов. Я не могу долго работать на улице, но и не могу позволить себе нанять помощников. Вода тоже ужасно дорогая. Я говорю об этом сразу, чтобы у тебя не сложилось плохого впечатления. Я с нетерпением жду встречи с тобой, хотя знаю, что это будет нелегко. И нервы у меня не самые лучшие. Приветствую тебя, новый родственник. И с нетерпением жду твоего ответа.
Магда.
Я получил всего два письма от Магды Корах, до того как прилетел в Израиль в конце лета 2010 года. В первых письмах мы делали шаги навстречу друг другу. Я писал, что хотел бы познакомиться с ней поближе, и она вежливо, но немного отстраненно ответила, что рада меня слышать. На самом деле это даже не были шаги навстречу. Скорее, я стучался в ее дверь. И своим вторым письмом Магда широко распахнула эту дверь. Она обращалась ко мне так, что я был поражен. В ее словах не было ни вялых иносказаний, ни тревоги.
Сидя в самолете, я снова достаю письмо, перечитываю его несколько раз, изучаю. Меня завораживает этот оставшийся целым язык. Он не стыдится того, о чем говорит. Я сажусь у окна, и мое явно навязчивое чтение вызывает интерес у сидящего рядом мужчины. Он спрашивает, впервые ли я лечу в Израиль. Это американский хасид, который незадолго до взлета занял место рядом со мной — вместе с женой и маленьким ребенком примерно шести месяцев. Большинство мест на этом рейсе из Женевы в Тель-Авив занимают хасиды. Многие из них с детьми, настроение у всех приподнятое, оживленное. Иногда мужчины встают и собираются в задней части самолета, чтобы вместе помолиться. «Через несколько дней Йом-кипур, — объясняет мне сосед на нью-йоркском английском, — поэтому многие летят домой». Он спрашивает, лечу ли я в Израиль как турист.
Я пытаюсь рассказать ему кратко свою историю, но предложения выходят неуклюжими, и я вдруг чувствую, что вступаю на небезопасную территорию. Я лавирую вокруг вопроса о моих корнях, не желая ни обидеть своего соседа, ни сделать какие-либо ненужные предположения. Но пока я так извиваюсь, он вдруг улыбается мне и говорит, как будто только что сложил дважды два: «Окей, значит вы еврей!»
Я ошеломлен его кратким и точным ответом и на короткий миг ощущаю что-то вроде приятной ясности. Я никогда не мог сформулировать ответ на вопрос о своих корнях в грамматически правильное предложение и никогда не чувствовал себя комфортно с коллективными метафорами. От слова «мы» меня бросает в холодный пот. «Да… нет… я не знаю… да, может…» — бормочу я.
Из аэропорта я на поезде добираюсь до центра и выгружаю вещи в квартире Эвелин и Паскаля. Эта пара — мои друзья. Они переехали в Тель-Авив какое-то время назад, когда Паскаль устроился на работу в местное швейцарское посольство. Они живут в просторной, хорошо оборудованной квартире недалеко от площади Ицхака Рабина. Именно на ней в 1995 году был убит премьер-министр Израиля.
Я бросаю рюкзак на кровать и звоню Магде, чтобы сообщить о своем приезде. Она приветствует меня, и мы договариваемся встретиться завтра у нее дома в Рамат-ха-Шароне. Оставшуюся часть дня я немного изучаю город. Гуляю по соседним кварталам, рассматривая здания в стиле баухаус, которыми так славится Тель-Авив, хожу по пляжу, наблюдая за играющими в волейбол людьми, делаю заметки в блокноте и пытаюсь себя успокоить.
Я люблю путешествовать и всегда чувствую себя как дома там, где еще не был. Путешествия дают мне ощущение, что я могу начать свою жизнь заново. Когда иду по незнакомым местам, улицам и закоулкам, я чувствую, как с каждым шагом расширяется моя память, я чувствую, что присваиваю реальность и превращаюсь в кого-то другого. Это ощущение будущего и перемен. Это чувство — мое определение надежды, и оно для меня ценнее чего-либо. То, что нужно, когда я достигаю предела.
Автобусная остановка, на которой я вышел следующим утром в Рамат-ха-Шароне, находится на центральной улице, где в утренней жаре выстроились несколько закусочных и кофеен, напоминающих американский пригород из фильмов Дэвида Линча. Заметно, что это молодой город. Видны его искусственные контуры, отвоеванные у самой земли с помощью законов, контрактов, коммерческой воли и политического насилия. Я надеваю кепку и достаю листок бумаги, на котором записан маршрут. Я брожу по району, пока через 15 минут не сворачиваю на улицу Эли Коэн и вдруг обнаруживаю, что стою перед домом номер восемь.
Это светлое бунгало с парой кустов и деревьев на песчаной земле перед ним. Я внезапно занервничал. Удивительно, но до этого момента я совершенно не думал о том, как пройдет встреча с Магдой. Как мы будем разговаривать друг с другом? И о чем? Я нервничаю все больше и больше и даже подумываю развернуться, сесть на автобус до города и улететь обратно домой. Но я беру себя в руки, открываю калитку маленького сада, выхожу на дорожку по направлению к двери и пробираюсь мимо десятка кошек, которые лежат на каменных плитах в разных позах и дремлют под солнцем.
Дверной звонок очень громкий. Я слышу приближающиеся изнутри шаги. Дверь открывает не Магда, а женщина лет 50 с сияющим выражением лица, которая сразу же тепло обнимает меня. «Я Рут, дочь Магды», — говорит она со смехом и приглашает меня войти теплым «Добро пожаловать в Израиль».
Она спрашивает, гладко ли прошло мое прибытие, и я подтверждаю это, когда вхожу. Она улыбается: «Борис, я очень рада познакомиться с вами. Так хорошо, что вы здесь!» Она спрашивает, где я остановился, и я рассказываю ей о квартире Эвелин и Паскаля. «Очень, очень хорошо. Это отличный район в самом центре. Пойдемте, я отведу вас к Магде».
Она ведет меня в столовую, которая находится в нескольких шагах от входа. Магда сидит за столом и смотрит на меня. Маленькая, хрупкая фигурка с худым морщинистым лицом и белыми волосами, боковой пробор которых скреплен заколкой, что делает ее немного похожей на маленькую девочку. «Добро пожаловать, Борис, — говорит она. — Прости, пожалуйста, что не могу встать и обнять тебя. Я крайне слаба и не могу стоять».
Она говорит с тем же акцентом старой австрийской монархии, что и бабушка, и мое внутреннее напряжение начинает понемногу ослабевать. «Здравствуй, Магда. Как приятно наконец-то с тобой познакомиться», — немного смущенно приветствую я ее. Я не знаю, обнимать ли ее, но тут Рут говорит: «Садитесь, пожалуйста, вон туда», — и указывает на стул напротив Магды, которая выжидающе следит за мной, пока я иду к столу и сажусь.
Рут предполагает, что я, скорее всего, голоден, и спрашивает, может ли предложить мне что-нибудь. «Или, может быть, хотите кофе?» Но прежде, чем я успеваю ответить, она исчезает на кухне. «Знаешь, для нас, евреев, очень важно гостеприимство», — говорит Магда слегка предупреждающим тоном, когда я поворачиваюсь к ней.
Только сейчас я замечаю большую впадину в верхней правой части ее головы. Выглядит так, будто кто-то вскрыл ее череп и удалил часть лобной доли. Магда внимательно смотрит на меня. Комната позади нее выходит в гостиную, где много заставленных книгами полок. Гостиная напрямую связана с крыльцом и садом, который хорошо виден с моего места. Здесь, правда, очень сухо и пусто, и я еще не знаю, что всего через два года снова окажусь здесь — на большой свадьбе старшего сына Рут Бен-Ишая и его партнерки Мики.
«Очень красивый дом», — говорю я и, наверное, что-то еще, чего уже и не помню. Хотя я знал, что разговоры с Магдой прольют свет на темные пятна, я решил не записывать их. Как ни странно, после встреч я тоже не вел записей, поэтому во всем, что я здесь пишу, мне приходится полагаться на память.
Магда кивает. «Мы с мужем Лаци приехали сюда в 1947 году, после окончания войны. Мы построили этот дом. Представь себе, здесь была лимонная плантация. Тогда это был единственный дом в округе. А теперь вокруг него вырос настоящий город», — говорит она, с изумлением думая об этом развитии. Она кладет сложенные руки на стол и смотрит на меня прямо и торжественно, как и во все последующие дни.
«Борис, послушай, я должна тебе признаться. Пожалуйста, не сердись, но я не хотела, чтобы ты сюда приезжал! После письма, которое ты получил, я упала на кухне. У меня очень слабые нервы, и я вдруг испугалась твоего визита. Я написала еще одно письмо с просьбой не приезжать. Но это письмо до тебя не дошло. Оно вернулось обратно».
Она протягивает мне через стол конверт. В отличие от предыдущих писем, это она, похоже, написала быстро: «Дорогой Борис, к сожалению, я упала на кухне. Раздробила плечевую кость (очень больно). Наша встреча не может состояться. Когда снова буду в порядке, я свяжусь с тобой. Прошлое письмо куда-то пропало, и у меня больше нет твоего телефона. С уважением, Магда».
Я смотрю на шапку письма и вижу, что оно адресовано на Шлосбергераллее, а не на Штрасбургераллее. К тому же Магда изменила мою фамилию на «Никита». Тем не менее я удивлен. Обычно почта проверяет такие несоответствия и в конце концов доставляет письма. Более того, предыдущие письма Магды доходили.
Я спрашиваю ее, будет ли ей спокойнее, если я уйду. Но она качает головой. «Я очень пожилой человек. Но ты здесь. И хотя мне очень трудно, я постараюсь рассказать тебе все. Но ты должен знать, что у меня очень слабые нервы. Рут настояла на том, чтобы быть здесь, когда ты придешь. Она здесь, чтобы охранять меня», — говорит Магда, и на ее губах появляется мимолетная улыбка.
Я смотрю на внушительную вмятину, составляющую добрую четверть верхней части ее черепа. «Тебе интересно, что это. Здесь, в этом доме, я десять лет выхаживала своего мужа. Представь себе, десять лет! После его смерти у меня начались мигрени. Они стали настолько невыносимы, что мне пришлось удалить часть лба».
Морщинистое лицо Магды обращено ко мне. «Борис, послушай. Я не могу объяснить, почему твоя бабушка никогда не рассказывала о своей семье. Мы не были особо близки. Мы писали друг другу несколько раз, потому что я хотела узнать, что случилось с ее отцом и где она была во время войны. Как ты уже знаешь, твои прадедушки и прабабушки были евреями. Семья твоего прадеда Пауля происходила из Гелницы в восточной Словакии. У него было девять братьев и сестер, одним из них был мой отец».
Магда на мгновение замирает и вдруг качает головой.
«Борис, послушай. Мой отец, моя мать, мои тети, мои четыре дяди, одним из которых был твой прадед, все они были убиты в лагерях. Мои сестры, Клари и Лили, были в Освенциме вместе с Манси, твоей прабабушкой. Клари и Манси выжили. Но Лили работала в лагере секретарем, и когда СС обнаружили, что она использует работу для передачи секретных писем от заключенных на почту, ее расстреляли. Расстреляли!»
Она смотрит на Рут, и они обмениваются несколькими фразами на иврите.
«Борис, послушай. Рут просила не говорить тебе это. Но в чем смысл, если ты не узнаешь всю правду? За день до того, как забрали моих родителей и двух сестер, отец позвонил твоему прадеду Паулю и попросил о помощи. В конце концов, они были братьями! Ты понимаешь? Братьями! И знаешь, каким был его ответ? „Прости меня, пожалуйста, но боюсь, я сейчас ничего не могу для тебя сделать. Я в постели с простудой“. Представь себе? С простудой! Он предал всех нас. Но мне надо остановиться, я не должна больше говорить об этом».
Магда откидывается назад и выдыхает. Некоторое время мы молчим. Я хочу кое-что сказать. «Что случилось с моей бабушкой?» — наконец спрашиваю я, немного неловко нарушая тишину. И мне тут же становится стыдно, что я задал этот вопрос сейчас.
«Несколько месяцев она пряталась в сарае родителей своего первого мужа в Тренчине. Нам всем приходилось прятаться. Знаешь, что было самым страшным? Ждать, когда они придут и заберут нас. После войны я поклялась, что больше никогда не буду прятаться».
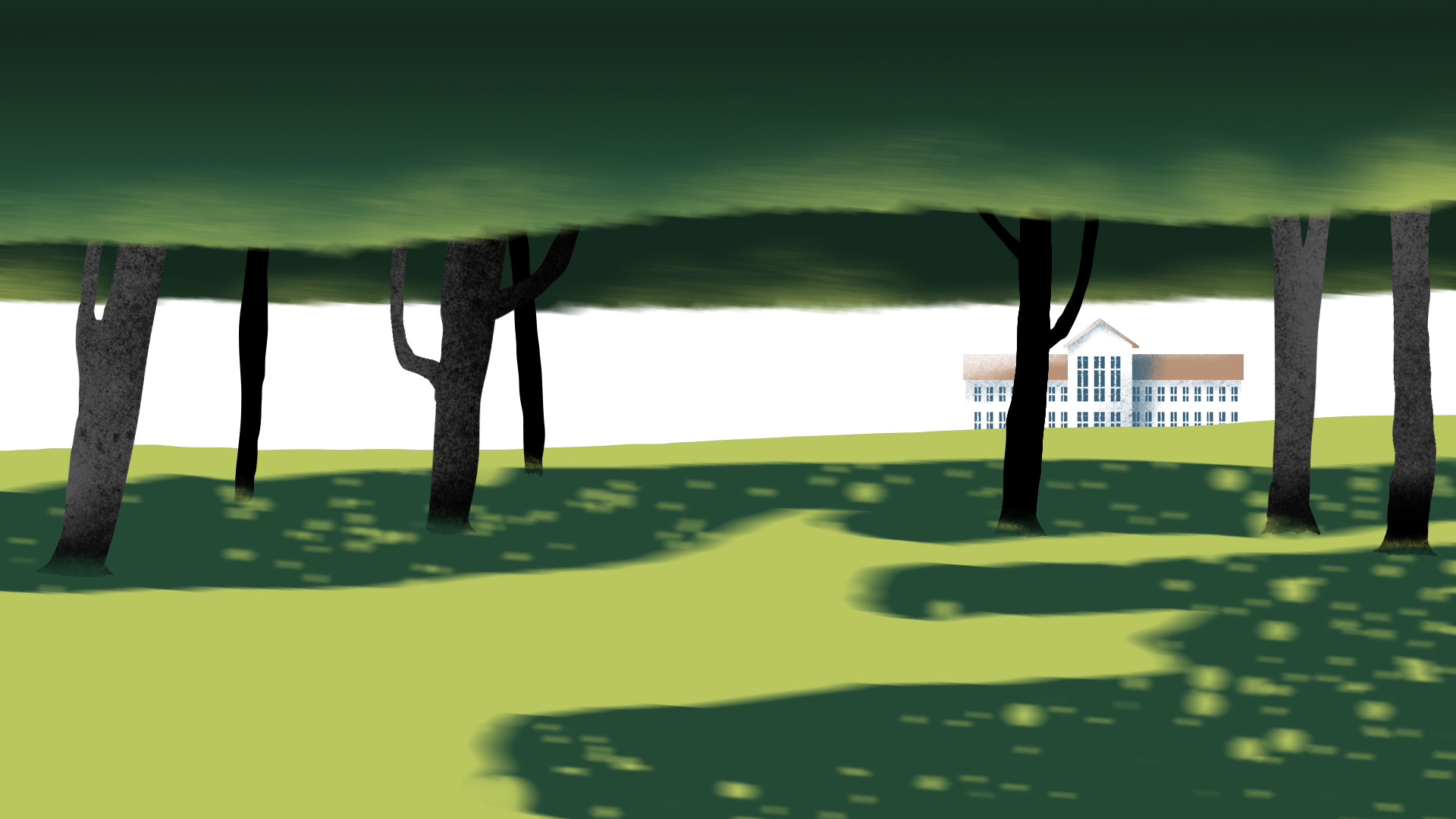
Я сомнительно отношусь к идее документальности, которая претендует на то, чтобы представлять реальность. Показывать, какова она. Документируя, ты неизбежно воспроизводишь собственные стремления. Ты выдаешь отбор за абсолютную реальность. Это искажение неизбежно. Поэтому документальность — высшая форма иллюзии, пропаганды. Документальность не просто изображает реальность, она ее производит. Наблюдатель не отделен от наблюдаемой им реальности какой-то магической стеной. Он является частью реальности. Наблюдая и описывая, ты вмешиваешься и меняешь реальность. Поэтому я с подозрением отношусь к любым документальным проектам, которые пытаются меня просветить или обучить. И с подозрением отношусь к тому, как на сцене людей соблазняют представляться своими настоящими именами, чтобы придать легитимность той или иной конструкции реальности. Это сводит их к упрощенному «я». Они должны быть самими собой, иначе вся конструкция рухнет. Они превращаются в собственных призраков, вынужденных бесконечно повторять конструкцию своей идентичности на каждом спектакле. Но в отличие от актера эти люди не могут просто отказаться от роли, покинув сцену. Следствие этого — человек как застывший документ.
Я написал это в манифесте летом 2009 года во время работы над «Имитацией жизни». Прошло всего полгода с момента моего выпуска из университета. Думаю, это можно понять по догматичному, неуверенному звучанию предложений. Тем же летом я сижу с бабушкой в саду ее клиники, как вдруг она, будучи не совсем в себе, упоминает концлагерь. Через несколько недель она умирает, унося с собой часть истории, позже открывшейся нам в письме Магды Корах, живущей в Израиле. На момент написания письма ей уже исполнилось 94 года.
Тринадцать лет я не переставал удивляться, почему моя бабушка никогда не рассказывала о своей еврейской семье. Почему она обрекла их, и тем самым часть себя, на невидимость? Именно этот вопрос я задаю себе в этом тексте, в этом эссе. И, по сути, ответ на него только один: я не знаю. Я уже не могу задать ей этот вопрос. Она уже не может на него ответить. Я могу лишь попытаться поставить себя на ее место и представить, каково это — после стольких лет насилия и страха во время войны вдруг вернуться к рутинной жизни в стране, которая показала тебе свое кошмарное лицо и которая вдруг хочет снова стать нормальной, — хотя ясно, что ничего уже никогда не будет нормальным.
Я могу только предполагать, поэтому должен помнить, что могу быть очень далек от того, что думала бабушка. И что, возможно, мои слова — это лишь я сам, моя нерешительность, моя скрытая немота. Я не думаю, что она знала о событиях, произошедших в ночь перед депортацией ее дяди, тети и кузин. Не думаю, что она знала о телефонном разговоре между Паулем, моим прадедом, и его братом. Я даже не знаю, состоялся ли этот разговор на самом деле, как мне о нем рассказали. А если и так, то я удивлюсь, если Пауль думал в этот момент о чем-то, кроме спасения себя и своей семьи, даже если для этого нужно предать семью брата и тем самым самого себя.
Возможно, я пытаюсь защитить бабушку от более простой истины, когда вижу причину ее молчания о еврейской семье, о еврейской идентичности в том, что до гонений и депортаций, до расовых законов она могла не считать себя еврейкой и что у нее не было языка для обозначения того, кем она была. Никаких терминов, никаких определений. Магда подвергалась гонениям как еврейка и иудейка, но она родилась и выросла у родителей, которые в то время считали себя христианами. Еще до рождения Магды они сильно изменили свою жизнь, отказавшись от традиций предков. Я ничего не знаю об их мотивации, и мне хочется считать их обращение романтическим актом бунтарства, провокацией. Я представляю себе молодую пару, порвавшую с ритуалами и законами своих семей. Те обеспечили им защиту, идентичность и дом, но могли казаться слишком косными, неготовыми строить будущее в светском обществе городов еще молодого XX века.
Хотелось бы верить, что это основные мотивы, побудившие Манси и Пауля Тоффлера принять такое решение. Но тогда мне пришлось бы проигнорировать, что отказ от еврейской идентичности давал социальные и юридические преимущества, что это было избавлением от ежедневных преследований, что их обращение могло также означать уход от оскорблений и насилия — попытку стать невидимыми путем приспособления, и поэтому их освобождение от традиций было неоднозначным процессом.
Но в 1940 году, когда вермахт вторгся в Чехословакию и были введены расовые законы, все это уже не имело значения. С помощью одной подписи их тела были юридически отделены от других, закреплены и классифицированы. И, как следствие, тело их дочери Магды, моей бабушки. Они снова стали теми, кем были всегда и кем им суждено было быть. Таков был новый закон.
Магда была воспитана как христианка, но из-за этих законов ее стали преследовать как иудейку и еврейку. Она была и той и другой. И в то же время никем.
Так кем же она стала, когда война закончилась? Какой была ее история? Как человек, для идентичности которого нет четкого термина, может не споткнуться в попытке рассказать свою историю? И как стыд за cвое собственное безмолвие перерос в нерешительность, а оттуда — в репрессивное молчание, молчание, которое в какой-то момент после стольких лет забыло о своем происхождении и в конце концов стало непременным условием жизни, выраженным в неспособности поделиться своей историей с детьми и внуками?
Но я не знаю, было ли это причиной ее молчания. Даже после войны она жила в стране, где не было места евреям. Многие предпочитали до поры до времени не показываться на публике. Они уносили свою идентичность в частную сферу — еще один способ, с помощью которого люди внезапно исчезают из реальности. Когда я обсуждаю это с мамой, она говорит, что не может вспомнить никого, кто признавал бы себя частью еврейской общины во времена ее молодости. «Евреев не было». Слово «еврей» было настолько пропитано стыдом и табу, что никто не осмеливался его произносить, словно оно под таинственным проклятием, так что даже простое произнесение могло повлечь за собой какое-то страшное наказание. И вот началось ожидание. Ожидание перемен. Будущего. Некоторые ждали всю жизнь.
Было ли моей бабушке стыдно? «Должно быть, она заперла это чувство глубоко внутри, куда никому не разрешалось заглядывать. Истинно восточноевропейская черта», — говорит мама. И я замечаю, как мне вдруг становится невероятно жаль Магду. Ей пришлось месяцами прятаться в сарае и терпеть смертельный страх, и, похоже, часть ее так и не покинула это место.
Во время написания этого текста мне становится ясна одна вещь, ее банальность меня пугает. Человек, который скрывает себя от других, даже от самых близких, воспринимает реальность не как союзника, а как угрозу. Этой реальности, в каком бы обличье она ни была, нельзя доверять, ведь она может прийти и забрать вас в любой момент. Я хотел бы возразить, что это разумное отношение, что имеет смысл держать вещи на расстоянии, чтобы судить о них с безопасной позиции. Это отношение мне хорошо знакомо.
Но в случае с моей бабушкой этот режим выживания связан не с абстрактными чувствами человека, брошенного во враждебную ему среду, а с тем, что в юности она была свидетелем того, как целое общество, включая друзей, соседей и других близких ей людей, внезапно полностью изменилось, открыв двери насилию, которое могло разрушить жизнь каждого. И ее глубокое недоверие к другим стало частью защитной системы, которую она выстроила вокруг себя, чтобы отгородиться от мира, даже если это означало, что она останется одна. В результате она компенсировала это гордостью и часто презрительным взглядом на окружающих. Иное потребовало бы не только нечеловеческой способности прощать, но и нечеловеческой способности забывать. Способности, которой моя бабушка не обладала. Однажды она сказала мне: «У меня не так много недостатков, всего один… Я никогда не забываю».
«Это характерно для ее поколения жителей Словакии», — говорит моя мама. И я спрашиваю себя: разве это не описывает многих людей? Разве это не описывает меня? Может, мое одиночество в конечном счете основано на воспоминаниях о физическом насилии, проходящем через всю историю человечества, даже если эта память больше не выражается в конкретном страхе, а, скорее, в отдалении от других людей?
***
Что именно произошло в той комнате ратуши в Познани около шести часов вечера, когда Гиммлер произносил свою речь и записывал ее на пластинки с помощью двух фонографов Эдисона на глазах у 43 собравшихся гауляйтеров? Иногда бывают моменты, когда реальность вдруг совершенно неожиданно обрушивается сама на себя, и открывается брешь. Пара секунд, когда в реальности открывается трещина, и можно на очень короткое время переустановить отношения между силой и бессилием, прежде чем этот момент пройдет, трещина снова закроется и реальность вернется в прежнее состояние.
Есть все основания полагать, что решение об уничтожении лишь логическое продолжение той политики, которую аудитория поддерживала с самого начала, поэтому «окончательное решение еврейского вопроса» будет воспринято всеми c чувством корпоративной солидарности. В таком случае можно подумать, что эти люди так часто предавали свои ценности, что уже не способны на что-либо, напоминающее индивидуальную точку зрения.
И все же что-то делает эту мысль маловероятной. Тот факт, что Гиммлер вообще установил записывающие устройства. Он, должно быть, предполагал, что его слова вызовут у некоторых слушателей шок, возможно даже протест. Сам Гиммлер в речи называет «решение еврейского вопроса» самым сложным в своей жизни. Мы никогда не узнаем. Мы никогда не узнаем, почувствовал ли кто-нибудь в этой комнате импульс к сопротивлению. Но ясно одно: было бы слишком легко и удобно думать, что его вообще не существовало.
В комнате есть все эти люди. Возможно, они смотрят друг на друга. На их лицах написан вопрос: может ли кто-то нарушить молчание? Кто знает? В то же время они смотрят на два фонографа с вращающимися дисками, которые делают явным, почти физически осязаемым, что с каждым вздохом что-то может быть сказано, что с каждым вращением что-то фиксируется. Потому что именно за этим, собственно, эти устройства здесь. Это системы наблюдения, демонстрация власти. Они не просто фиксируют тишину. Они ее производят. Фонографы призывают всех присутствующих сделать в этот момент выбор. И в то же время они следят за тем, чтобы этот момент прошел и был зафиксирован для потомков. Всего пара секунд. Никто не говорит, никто не высказывается. Такова механика, которая требуется разрушению. Она запечатлена в виде царапающего шума, слышимого между словами.